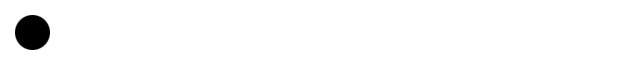Читая большинство очерков, можно увидеть в центре всех этих событий некрасивую, но талантливую, поэтессу Елизавету Ивановну Дмитриеву (1887-1928), белого и пушистого мистификатора Максимилиана Волошина (1877-1932) и "грубого" Николая Гумилева (1886-1921). Рядом стоят ошалевший от любви к прекрасной незнакомке Сергей Константинович Маковский (1877-1962) и несколько молодых и восторженных второстепенных поэтов, сотрудников "Аполлона", клюнувших на эту Черубину.
Почти все авторы опубликованных трудов в восторге от проделки Волошина и таланта Дмитриевой и дружно ругают Гумилева за некую грубость (в словах), якобы произведенную по отношению к Дмитриевой.
Почему я пишу "якобы"? Потому что если внимательно приглядеться к содержанию подавляющего большинства публикаций, то выясняется, что автором такого видения событий является только один человек – Максимилиан Волошин. А он, как одна из самых заинтересованных сторон в этой некрасивой истории, пытался всячески обелить и себя, и свою сообщницу. В первую очередь, разумеется, себя.
Но вначале меня насторожило то обстоятельство, что Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) до конца своих дней не простила Волошину этой истории и не желала иметь с ним ничего общего. Ахматова была в стороне от этих событий, но в течение свой жизни она могла выслушать почти всех участников данной истории, однако своего отношения к Волошину она так и не переменила.
Как же так, закричат негодующие любители русской словесности! Не трогай Волошина! Он мужественный, белый и пушистый! Он хороший! Он весь в шоколаде!
Но это ведь все известно только по его собственным рассказам, отвечаю я.
А воспоминания Цветаевой, а воспоминания самой Дмитриевой? Они что – ничего не стоят?!
Да, уважаемые читатели, они ровно ничего не стоят.
Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) услышала об этой истории от самого Волошина. Ей было тогда семнадцать лет, и она была страстно влюблена в маститого поэта. Естественно, что она приняла на веру каждое его слово. И записала. Позже. Она написала свою историю о талантливой и несчастной поэтессе. Хромой, некрасивой, но очень одаренной, которая не нашла другого пути, чтобы пробиться в мир поэзии через толпу мужчин, которые бы не простили ей несоответствия красоты ее стихов и физической ущербности поэтессы.
Цветаеву не насторожило даже то обстоятельство, что Волошин и ей предложил участвовать в аналогичной мистификации, но выдавая себя на этот раз за мужчину. От такого предложения Цветаева гордо отказалась, заявив, что все написанное она привыкла подписывать своим настоящим именем.
Об этой истории из участников тех событий написали еще С.К. Маковский, А.Н. Толстой (1883-1945), Иоганнес фон Гюнтер (1886-1973) и сама Дмитриева. Гумилев никогда не обсуждал историю с Черубиной и не опускался до опровержения возводимых на него обвинений.
Попытаемся просеять эти материалы, а также сопутствующие данные, проанализировать их и трезво посмотреть, что получится.
Воспоминания Дмитриевой...
Давайте, уважаемые читатели, сначала внимательно посмотрим, что же собой представляла героиня нашего рассказа - Елизавета Дмитриева, что это был за человек?
Читая сухие строки ее жизнеописания, хочется пролить слезу над судьбой этой глубоко несчастной женщины. Но она-то себя несчастной не считала! Почему? Ответ кроется и в ее болезненности, и в психической ущербности ее личности.
Итак, Елизавета Дмитриева родилась в 1887 году в семье бедного дворянина. Было ли это дворянство настоящим, мне неведомо, но сама Дмитриева и ее родственники называли со стороны отца каких-то предков из Швеции. С материнской же стороны были украинцы и цыгане. Неплохая смесь!
С самого детства девочка очень много болела, буквально годами не вставая с постели. Уже одно это могло сильно повлиять на личность девушки – на ее физическое состояние и психику.
В возрасте тринадцати лет она была якобы изнасилована одним из приятелей ее матери, доктором. Это версия семьи Дмитриевой, но, очень вероятно, что привыкшая валяться в постели девица размечталась и сама затащила доктора в постель. Ведь все равно доктору никто бы не поверил, что не он был инициатором их связи.
В 1901 году умер отец Дмитриевой.
Когда в 1903 году Дмитриева встала, наконец, с постели, она немного хромала [этот физический недостаток был у нее с детства и до самой смерти], но была уже настоящей нимфоманкой, так как сразу же вступила в связь с неким Леонидом. Перечислить все ее дальнейшие связи просто не представляется возможным, да это и не нужно.
Кроме того, хочу обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на одно обстоятельство, которое очень часто замалчивается многими исследователями – Дмитриева страдала серьезными психическими расстройствами.
[Следует заметить, что в семье Дмитриевых психические расстройства были наследственными: ими страдали и ее брат, и сестра, а позднее и мать.]
Во время приступов Дмитриева настолько теряла память, что совершенно не помнила не только того, что с ней происходило, но часто в совершенно фантастическом виде представляла и свое прошлое, и совсем недавние события.
Провалы в памяти она восстанавливала с помощью своих близких, так что следует признать – Елизавета Дмитриева с юности существовала в некоем фантастическом мире, созданном ее воспаленным воображением и рассказами родных и близких. Она часто оплакивала свою рано умершую дочь Веронику или умершую мать.
Маковского, не подозревавшего о психических болезнях Черубины-Дмитриевой, это обстоятельство потом просто восхитило. Но никакой дочери Вероники никогда не существовало, а ее мать совсем неплохо себя чувствовала.
Так что Елизавета Дмитриева была прекрасным сырьем для любителя мистификаций и игрока чужими судьбами Максимилиана Волошина. Но они еще не встретились...
Пока же Лиля Дмитриева закончила с медалью гимназию и поступила в Женский Педагогический институт, где слушала лекции по французской литературе и французскому языку. Но поскольку контингент в Педагогическом институте был сугубо женский, а Лиле постоянно требовались мужчины и их внимание, то наша героиня с осени 1906 года стала ходить, как вольнослушательница, в Петербургский университет, где посещала лекции по испанистике и старофранцузской литературе.
Волошин в своих воспоминаниях делает Дмитриеву ученицей самого академика Александра Николаевича Веселовского (1838-1906), но Веселовский умер 10 (23) октября 1906 года, так что его ученицей Дмитриева никак не могла быть. На самом же деле она всего лишь посещала (посетила несколько лекций) лекции по испанистике профессора Дмитрия Константиновича Петрова (1872-1925), который и был учеником Веселовского. Но это лишь один из мелких элементов волошинской мистификации, которая в письменном виде была зафиксирована где-то около 1930 года.
Дмитриева же помимо учебы в институте продолжает лихорадочно искать встреч с различными мужчинами. Так, в Публичной библиотеке она сделала вид, что интересуется философией, и под этим предлогом пыталась завязать интрижку с Эрнестом Леопольдовичем Радловым (1854-1928). Результат мне неизвестен, но, скорее всего, у нее ничего не вышло. Это было в 1905 году.
В 1906 году она заводит переписку с немецким студентом Удо Штенгеле и пытается заочно очаровать его, влюбить в себя, в прекрасную незнакомку. Так что уже здесь можно проследить корни возникновения Черубины де Габриак. Дмитриева была также склонна к мистификациям, как и Волошин, и они неизбежно должны были встретиться, что и произошло, но немного позже.
[Прямо сюжет из сентиментально-авантюрного романа.]
Пока же она познакомилась со студентом Всеволодом Николаевичем Васильевым (1883-1944) и пообещала выйти за него замуж, но свое обещание Дмитриева выполнит значительно позднее.
В 1907 году Дмитриева приезжает в Париж, где в мастерской художника Себастьяна Абрамовича Гуревича ее знакомят с Н. Гумилевым. Это было лишь мимолетное знакомство, но оно было, хотя и сразу же выпало из памяти Гумилева. Но не Дмитриевой.
В Сорбонне Дмитриева посетила несколько лекций профессора Рене Думика (1860-1937) по старофранцузской литературе. О похождениях Дмитриевой в Париже я никаких сведений не нашел.
В самом начале 1908 года в жизни Елизаветы Дмитриевой произошли трагические события. От заражения крови скоропостижно умерла ее сестра Антонина в возрасте 24 лет, а муж сестры покончил жизнь самоубийством. Эти события наверняка оказали какое-то влияние на неустойчивую психику нашей героини.
В марте 1908 года происходит знаковое событие нашей истории - Дмитриева знакомится с Максом Волошиным и сразу же влюбляется в него. Макс был весьма колоритной фигурой, здоровым мужиком и уже достаточно известным поэтом. Их роман начался практически сразу, что и неудивительно при уже известной нам слабости Дмитриевой к существам противоположного пола. У Волошина же сравнительно недавно распался брак с Маргаритой Васильевной Сабашниковой (1882-1973), так что он тоже был свободен и не чурался встреч с дамами.
Запись о встрече с Дмитриевой в дневнике Волошина помечена 18 апреля 1908 года [по старому стилю], хотя считается, что они встретились 22 марта. Он пишет:
"Некрасивое лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза. В комнате несколько человек, но мы говорим, уже понимая, при других и непонятно им".
Но тем же числом Волошин был вынужден в своих заметках отметить, что Дмитриеву постоянно преследуют видения и различные галлюцинации. Вот запись Волошина ее слов:
"Да... галлюцинации. Звуки и видения. Он был сперва черный, потом коричневый... потом белый, и в последний раз я видела сияние вокруг. Да... это радость. Звуки — звон... стеклянный... И голоса... Я целые дни молчу. Потом ночью спрашиваю, и они отвечают..."