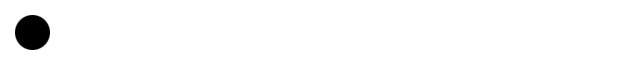Граф Владимир Александрович Соллогуб
Мыза Карлово, что находится на окраине Дерпта (Тарту), с 1828 года принадлежала Фаддею Венедиктовичу Булгарину (1789-1859), который постоянно бывал там до 1837 года. Через некоторое время Булгарин начал сдавать Карлово внаём, и в середине 50-х годов XIX века после семейства князя Михаила Александровича Дондукова-Корсакова (1794-1869) на мызу въехал граф В.А. Соллогуб, уже давно ставший известным писателем.
Боборыкин тогда учился в Дерптском университете и был свидетелем этого события:
"В Карлове после Дондуковых поселилась семья автора “Тарантаса” графа В.А. Соллогуба, которого я впервые увидал у Дондуковых, когда он приехал подсмотреть для своего семейства квартиру ещё за год до найма булгаринских хором".
Первые впечатления Боборыкина об известном писателе были не слишком благоприятными:
"Признаюсь, он мне в тот визит к обывателям Карлова не особенно приглянулся. Наружностью он походил ещё на тогдашние портреты автора “Тарантаса”, без седины, с бакенбардами, с чувственным ртом, очень рослый, если не тучный, то плотный; держался он сутуловато и как бы умышленно небрежно, говорил, мешая французский жаргон с русским – скорее деланным тоном, часто острил и пускал в ход комические интонации.
Таким оставался он и позднее... но мы с ним всё-таки ладили. Я был к тому времени довольно уже обстрелянный “студиозус”, любящий поспорить и отстоять своё мнение".
Боборыкин невольно признаётся в том, что у него к тому времени уже сложилось определённое отношение к творчеству Соллогуба-писателя, что, конечно же, отразилось и на восприятии Соллогуба-человека:
"Как писатель тогдашний граф Соллогуб уже мало “импонировал” мне, как говорят в таких случаях. Не один я находил уже, что он разменялся на мелкие деньги. Его либеральная комедия “Чиновник” совсем меня не обманула ни в “цивическом” (гражданском), ни в художественном смысле".
Свою любовь к спорам, невзирая на авторитеты, молодой Боборыкин проявил почти сразу же после знакомства с графом Соллогубом:
"И в первый же вечер, когда граф (ещё в первую зиму) пригласил к себе слушать действие какой-то новой двухактной пьесы (которую Вера Самойлова попросила его написать для неё), студиозус, уже мечтавший тогда о дороге писателя, позволил себе довольно-таки сильную атаку и на замысел пьесы, и на отдельные лица, и, главное, на диалог.
И со мною согласилась прежде всех остальных слушателей сама графиня. Автор не обиделся, по крайней мере, не выказал никакого “генеральства”, почти не возражал и вскоре потом говорил нашим общим знакомым, что он пьесу доканчивать не будет, ссылаясь и на мои замечания.
От такого критического успеха я не возгордился".
Сологуб очень спокойно перенёс сильную атаку дерзкого студента, но не отдалил его от себя, а, наоборот, делился с любознательным молодым человеком своими воспоминаниями о встречах со знаменитыми соотечественниками:
"И граф не стал вовсе избегать разговоров со мною. Напротив, от него я услыхал – за два сезона, особенно в Карлове – целую серию рассказов из его воспоминаний о Пушкине, которого он хорошо знал, Одоевском, Тургеневе, Григоровиче, Островском.
Он действительно был первый петербургский литератор, у которого Островский прочёл комедию “Свои люди - сочтёмся!”. И он искренно ценил его талант и значение как создателя бытового русского театра".
После таких бесед Боборыкин скорректировал своё мнение о графе Соллогубе, как писателе, правда, в либерально-демократическом духе:
"В таких людях, как граф Соллогуб, надо различать две половины: личность известного нравственного склада, продукт барски-дилетантской среды с разными “провинностями и шалушками”, и человека, преданного идее искусства и вообще, и в области литературного творчества. В нём сидел нелицемерный культ Пушкина и Гоголя; он в своё время, да и в эти годы, способен был поддержать своим сочувствием всякое новое дарование. Но связи с тогдашними передовыми идеями у него уже не было настолько, чтобы самому обновиться. Он уже растратил всё то, что имел, когда писал лучшие свои повести, вроде “Истории двух калош”, и свой “Тарантас”. Он действительно разменялся, кидаясь от театра (вплоть до водевиля) к этнографии, к разным видам полуписательской службы, состоя чиновником по специальным поручениям".
Да и для Сологуба-человека у Боборыкина нашлись потом добрые слова:
"В Соллогубе остался и бурш, когда-то учившийся в Дерпте, член русской корпорации. Сквозь его светскость чувствовался всё-таки особого пошиба барин, который и в петербургском монде в года молодости выделялся своим тоном и манерами, водился постоянно с писателями, и когда женился и зажил домом, собирал к себе пишущую братию".
Окончательно Боборыкина добил граф Сологуб своим отношением к молодёжи зимой 1859 года:
"В предпоследнюю мою дерптскую зиму он вошёл в наше сценическое любительство, когда мы с благотворительной целью (в пользу русской школы, где я преподавал) ставили спектакли в клубе “Casino”, давали и “Ревизора”, и “Свадьбу Кречинского”, и обе комедии Островского. Он приходил в наши уборные, гримировал нас и одевал, и угощал при этом шампанским".
Графиня Софья Михайловна Соллогуб
Жена графа В.А. Соллогуба, графиня Софья Михайловна Соллогуб (Виельгорская, 1820-1878), была замечательной женщиной и заслуживает отдельной главы.
Боборыкин вспоминает, что сразу же после приезда Соллогубов в Карлово, он
"стал часто бывать у Соллогубов, но больше у жены его, графини Софьи Михайловны (урожденной графини Виельгорской), чем у него, потому что он то и дело уезжал в Петербург, где состоял на какой-то службе, кажется по тюремному ведомству".
Да, красота графини оказала такое сильное влияние на нашего молодого человека, что даже спустя годы он как-то невнятно оправдывает свои частые посещения дома Соллогубов.Впрочем, описывает графиню Боборыкин довольно скупыми мазками:
"Его жена, графиня Софья Михайловна, была для всего нашего кружка гораздо привлекательнее графа. Но первое время она казалась чопорной и даже странной, с особым тоном, жестами и говором немного на иностранный лад. Но она была - в её поколении - одна из самых милых женщин, каких я встречал среди наших барынь света и придворных сфер; а её мать вышла из семьи герцогов Биронов, и воспитывали её вместе с её сестрой Веневитиновой чрезвычайно строго".
Аполлинария Михайловна Веневитинова (Виельгорская, 1818-1884) в 1843 году вышла замуж за Алексея Владимировича Веневитинова (1806-1872), брата поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова (1805-1827)..Отмечал Боборыкин и давнее знакомство графини с Гоголем:
"Тогда графиня уже была матерью целой вереницы детей, и старшая дочь (теперь Е.В. Сабурова) ещё ходила в коротких платьях и носила прозвище Булки, каким окрестил её когда-то Гоголь.
Воспоминания о Гоголе были темой моих первых разговоров с графиней. Она задолго до его смерти была близка с ним, состояла с ним в переписке и много нам рассказывала из разных полос жизни автора “Мёртвых душ”".
Напоследок Боборыкин делает почти идиллическую зарисовку:
"В маленьком кабинете графини (в Карлове) я читал ей в последнюю мою зиму и статьи, и беллетристику, в том числе и свои вещи. Тогда же я посвятил ей пьесу “Мать”, которая явилась в печати под псевдонимом".
Пётр Исаевич Вейнберг
С поэтом, переводчиком и журналистом Петром Исаевичем Вейнбергом (1831-1908) Боборыкин познакомился в 1861 году, когда тому было 30 лет, поэтому определённый интерес представляет зарисовка нестарого ещё литератора, которого все привыкли видеть на портретах позднего времени с окладистой бородой:
"Кто знаком с теперешней наружностью моего собрата – с его обликом “Нестора” петербургского писательского мира, - вряд ли мог бы составить себе понятие о тогдашнем его внешнем виде. Он был резкий брюнет, с бородкой, уже с редеющей шевелюрой на лбу и более закругленными чертами лица, но с тем же тоном и манерами. Дома он носил длинный рабочий сюртук – род шлафрока, принимал в первой, довольно просторной комнате, служившей редакторским кабинетом".
Вейнберг был тогда редактором еженедельного журнала “Век”, и упоминание об этом позволяет Боборыкину отметить ещё несколько черт личности Петра Исаевича:
"В “Веке” появился разбор моего “Ребёнка”, написанный самим редактором, - очень для меня лестный. Оценка эта исходила от такого серьёзного любителя и знатока сценического дела. Он раньше, в Петербурге же, играл Хлестакова в том знаменитом спектакле, когда был поставлен “Ревизор” в пользу [Литературного] “Фонда” и где Писемский (также хороший актёр) исполнял городничего, а все литературные “имена” выступали в немых лицах купцов, в том числе и Тургенев".
Алексей Феофилактович Писемский (1820-1881) – русский писатель.Михаил Илларионович Михайлов
Литератора М.И. Михайлова (1829-1865) Боборыкин снабжает инициалами М.Л. по той простой причине, что все тогда говорили “Михаил Ларионович”; так и повелось.
Впервые Боборыкин увидел Михайлова ещё в свои юные годы, и был поражён его внешностью: "О М.Л. Михайлове я должен забежать вперёд, ещё к годам моего отрочества в Нижнем. Он жил там одно время у своего дяди, начальника соляного правления, и уже печатался; но я, гимназистом, видел его только издали, привлечённый его необычайно некрасивой наружностью. Кажется, я ещё и не смотрел на него тогда, как на настоящего писателя, и его беллетристические вещи (начиная с рассказа “Кружевница” и продолжая романом “Перелётные птицы”) читал уже в студенческие годы".
Познакомился же с Михайловым Боборыкин несколько позже, когда из Дерпта, где он учился в местном университете, он приехал в Петербург к известному поэту Якову Петровичу Полонскому (1819-1898):
"В первый раз я с ним говорил у Я.П. Полонского, когда являлся к тому, ещё дерптским студентом, автором первой моей комедии “Фразёры”. Когда я сказал ему у Полонского, что видал его когда-то в Нижнем, то Я.П. спросил с юмором:
"Вероятно, в каком-нибудь неприличном месте?"
И я вспомнил тогда, что Михайлова считали автором скабрезных куплетов на Нижегородскую ярмарку, где есть слобода Кунавино".Ненавязчиво Боборыкин упоминает и о переходе Михайлова к полулегальной деятельности:
"После знакомства с Вейнбергом я столкнулся с Михайловым у Писемского вскоре после приезда моего в Петербург. Он, уходя, жаловался Писемскому на то, что у него совсем нет охоты писать беллетристику.
"А ведь я был романист!" -
вскричал он."Заучились, батюшка, заучились... Вот и растеряли талант!" -
пожурил его Писемский.В эти годы Михайлов уже отдавался публицистике в целом ряде статей на разные “гражданские” темы в “Современнике”, и из-за границы, где долго жил, вернулся очень “красным” (как говорили тогда), что и сказалось в его дальнейшей судьбе".