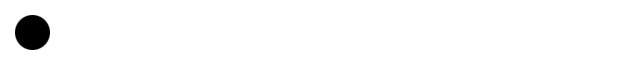"Антон Палыч Чехов однажды заметил..."
Предлагаю вам, уважаемые читатели, посмотреть, что и как замечал Антон Палыч (в дальнейшем для краткости буду называть его просто А.П.), и каким он был в глазах своих современников. Сразу предупреждаю, что в изложении событий я совершенно не буду придерживаться хронологического порядка.Итак, мы начинаем...
Детские и подростковые годы мы опустим. Не хочется мне вспоминать его не очень сытное и обеспеченное детство. Вспоминая свое детство, А.П. говорил Вл.И. Немировичу-Данченко:
"Знаешь, я никогда не мог простить отцу, что он меня в детстве сек".
Вот и все, что я хотел бы рассказать про детство А.П.Перейдем к студенческим годам А.П. Однокурсники студента Чехова попросту не заметили. Да, был такой студент, прилежно посещал все занятия. Вот и все, что удалось извлечь из воспоминаний его однокурсников. Если бы не его друзья, то об этом периоде жизни А.П. мы ничего больше и не узнали бы.
Вспоминая свои студенческие годы, сам А.П. с горечью говорил:
"Вы знаете, я окончил Московский университет. В университете я начал работать в журналах с первого курса. Пока я учился, я успел напечатать сотни рассказов под псевдонимом "А.Чехонте", который, как вы видите, очень похож на мою фамилию. И решительно никто из моих товарищей по университету не знал, что "А.Чехонте" - я, никто из них этим не интересовался. Знали, что я пишу где-то что-то, и баста. До моих писаний никому не было дела".
А.С.Лазарев-Грузинский вспоминал по этому же поводу:
"В последние годы судьба сводила меня с товарищами Чехова по университету, но кроме того, что Чехов ходил на лекции аккуратно и садился где-то "близ окошка", мне от них ничего не пришлось услыхать. Они не могли дать ни одной характерной бытовой черты".
Когда Чехов стал уже известным писателем, а сборник его рассказов "Сумерки" получил полную академическую премию, вождь тогдашней "прогрессивной" молодежи М.К. Михайловский выступал с негативной оценкой творчества А.П., обосновывая это тем, что Чехов писатель безыдейный.
В то же самое время Лев Толстой заявил:
"Вот писатель, о котором и поговорить приятно".
Интересно мнение о Чехове "корифеев" русской литературы того времени, Григоровича и Боборыкина (кто, интересно, их нынче читает).Когда при Григоровиче начали хвалить одного бездарного, но очень "идейного" писателя и сравнивать его с Чеховым, почтенный писатель возмутился:
"Да он недостоин поцеловать след той блохи, которая укусит Чехова".
А о рассказе "Холодная кровь" Григорович сказал, правда, как бы удивляясь своей дерзости:"Поместите этот рассказ на одну полку с Гоголем, вот как далеко я иду".
Боборыкин также очень хвалил творчество А.П. и утверждал, что непременно каждый день доставляет себе удовольствие читать хотя бы по одному рассказу Чехова.Свою драматургическую деятельность А.П. начал двумя одноактными водевилями: "Медведь" и "Предложение". Эти шуточные произведения имели большой успех, часто везде ставились, и А.П. часто говорил:
"Пишите водевили, они же вам будут давать большой доход".
Однако сам этому совету не очень-то и следовал.А.П. с большой нежностью относился к своей матери, и если уезжал куда-нибудь, то каждый день писал ей хотя бы пару строк. Это не мешало ему частенько подшучивать над ее религиозностью. Он мог, например, неожиданно спросить ее:
"Мамаша, а что, монахи кальсоны носят?"
Сохранилось множество портретов и фотографий Чехова, а из словесных описаний одно из лучших принадлежит Вл.И. Немировичу-Данченко. Вот как он описывает А.П.:
"Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы. Держался он скромно, но без излишней застенчивости; жест сдержанный. Низкий бас с густым металлом; дикция настоящая русская, с оттенком чисто великорусского наречия; интонации гибкие, даже переливающиеся в какой-то легкий распев, однако без малейшей сентиментальности и, уж конечно, без тени искусственности...
Внутреннее равновесие, спокойствие независимости, - в помине не было этой улыбки, которая не сходит с лица двух собеседников, встретившихся на какой-то обоюдно приятной теме...
Его же улыбка была совсем особенная. Она сразу, быстро появлялась и так же быстро исчезала. Широкая, открытая, всем лицом, искренняя, но всегда накоротке. Точно человек спохватывался, что, пожалуй, по этому поводу дольше улыбаться и не следует. Это у Чехова было на всю жизнь. И было это фамильное. Такая же манера улыбаться была у его матери, у сестры и, в особенности, у брата Ивана".
А.П. в молодости любил выпить, но с возрастом пил все меньше. Он считал, что регулярно выпивать за обедом и ужином не стоит, но иногда выпить, пусть даже и много, совсем не вредно. Однако никто и никогда не видел А.П. совсем пьяным и распоясавшимся.
В общении А.П. был прост, любезен (совсем без слащавости) и изящен, но часто с прохладой. При встрече он пожимал руку и мимоходом, не дожидаясь ответа, произносил:
"Как поживаете?"
А.П. не любил длинных объяснений и долгих споров.
Тургенев однажды сказал про Чехова:
"Вот человек, который обладает тем качеством, которое Гомер передал бы словами: взять быка за рога".
Когда А.П. еще не имел приличных доходов, ужины у него дома обычно сопровождались "чеховским салатом", состоявшим из картофеля, маслин и лука. Позже, после связи с художественным театром, Чеховы стали жить богаче, и этот салат исчез из рациона.
Как-то дождливым вечером из Максимовки к Чехову пришла жена горшечника и стала жаловаться на свои болячки. Из разговора выяснилось, что ее жилец, которого она называла Тесак Ильич (это был друг Чехова художник Исаак Левитан), тоже заболел. Чехов обрадовался, что его друг находится так близко, и предложил братьям навестить его. Те сразу же согласились, так что вскоре Антон, Иван и Михаил надели сапоги, взяли фонарь и пошли в Максимовку. Найдя дом горшечника (по большому количеству черепков вокруг дома) они без стука вломились в избу, направив фонарь на Левитана. Тот схватил револьвер, но вовремя разглядел братьев Чеховых. Левитан нахмурился от света и проворчал, картавя:
"Черт знает, что такое... Какие дураки. Таких еще свет не производил..."
Братья разместились у Левитана, А.П. много шутил и острил, так что вскоре развеселился и больной Левитан.В 1884 году собрался дружеский ужин у В.А. Гиляровского. Зашел разговор о Крыме, и Левитан сделал в альбоме два рисунка карандашом, "Ветлы" и "Море при лунном свете".
Затем Николай Павлович Чехов цветными карандашами изобразил в альбоме прекрасную женскую головку.
А.П. долго разглядывал эти рисунки и с возмущением произнес:
"Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник".
Он взял альбом и за пару минут набросал рисунок, который друзья встретили дружным хохотом. А.П. же невозмутимо заметил:"Береги, Гиляй, это единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана".
На рисунке была гора, по которой спускался турист в шляпе и с палкой, какая-то башня, дом с надписью "Трактир", море с плывущим по нему пароходом и летящие в небе птицы. На рисунке везде были пояснения: "море", "гора", "турист", "чижи", а внизу красовалось название: "Вид имения "Гурзуф" Петра Ионыча Губонина".