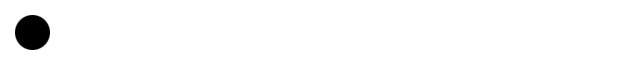Русская политика в отношении аборигенов крайнего Северо-Востока Сибири (XVIII в.)
Печатный аналог: Зуев А. С. Русская политика в отношении аборигенов крайнего Северо-Востока Сибири (XVIII в.) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 1. Вып. 3: История / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. C. 14–24.
Публикуется с согласия редакции сборника
Адрес этого документа:
http://zaimka.ru/07_2002/zuev_policy/
К началу XVIII в. русские землепроходцы завершили свое триумфальное шествие по Сибири, выйдя на ее северо-восточные рубежи — Чукотку, Корякию и Камчатку, где встретились с народами — чукчами, азиатскими эскимосами, коряками и ительменами, которые по уровню и характеру своего политического и социально-экономического развития находились еще на стадии каменного века и первобытного строя, только вступив на путь перехода от эгалитарного к стратифицированному обществу[1]. В этом отношении они резко контрастировали не только с пришельцами-русскими, но и со многими другими сибирскими аборигенами, уже попавшими под власть Москвы. Однако несмотря на то, что за русскими служилыми и промышленными людьми стояла вся мощь огромного государства, их усилия по подчинению малочисленных обитателей Северо-Востока Сибири трудно назвать успешными. Последние в своем большинстве, не желая платить ясак и противодействуя русским попыткам закрепиться на их землях, оказали ожесточенное сопротивление, в результате чего вторая половина XVII — первая четверть XVIII вв. были насыщены многочисленными русско-аборигенными столкновениями.
К концу первой четверти XVIII в. степень подчинения северо-восточных народов сильно варьировалась. Чукчи и эскимосы оставались непокоренными, на их территории не было построено ни одного русского поселения, с их основной массой не удалось установить мирных отношений, и самым распространенным вариантом контактов с ними были вооруженные столкновения. Ситуация с коряками была не столь однозначной. Многие их территориальные группы в отдельные годы фигурировали среди ясачноплательщиков, но процесс их объясачивания (а, соответственно, и приведения в подданство) был далек от завершения. Ясачное состояние коряков было крайне нестабильным, ясак вносился нерегулярно, в незначительном и произвольном размере, а часть коряков, и, возможно, значительная, вообще никогда не платила ясак. Не увенчались успехом и попытки русских закрепиться на их земле. Более активно и успешно благодаря возведению на Камчатке русских острогов с постоянными гарнизонами и администрацией шло подчинение ительменов. Но и среди них не все еще признали русскую власть, причисляясь последней к категории «немирных иноземцев»[2].
Численность и расселение аборигенов крайнего Северо-Востока Сибири представляли следующую картину. К началу XVIII в. чукчи, часть которых была кочевыми оленеводами («оленными»), часть — оседлыми морскими охотниками и рыболовами («сидячими», «пешими»), образовывали две территориальные группы: одна занимала собственно Чукотский полуостров, вторая обитала между низовьями рек Колымы и Алазеи. Последняя по не вполне выясненным причинам бесследно исчезла к 1720-м гг. Ближайшими соседями чукчей были азиатские эскимосы, которые проживали на побережье от Анадырского залива до мыса Шелагского и занимались морским промыслом. В XVII–XVIII вв. русские не отличали особо эскимосов от чукчей, называя всех их чукчами. По весьма приблизительным подсчетам чукотско-эскимосское население в это время насчитывало 8–10 тыс. чел. обоего пола.
Коряки также делились на «оленных» и «сидячих» и на несколько территориальных групп, именовавшихся, как правило, по названию рек, на которых обитали (пенжинцы, паренцы, гижигинцы, алюторы, апукинцы, укинцы и т. д.). Они занимали северную половину Камчатки, северную часть Охотского побережья и побережье Берингова моря до р. Анадырь. Их численность на рубеже XVII–XVIII вв. определяют ориентировочно от 7 до 13 тыс. чел., а в 1760-х гг. — около 5 тыс. чел.
В отличие от своих северных соседей все ительмены были оседлыми рыболовами, но и они делились на несколько территориальных групп, обитавших на Камчатке к югу от рек Тигиль и Ука до мыса Лапатка. Причем проживавшие к северу представляли собой смешанное ительмено-корякское, а к югу — ительмено-айнское население. К началу XVIII в. их насчитывалось около 13 тыс., на рубеже 1730–1740-х гг. — 8–9 тыс., в 1760-х гг. — около 6 тыс. чел.[3].
С конца 1720-х гг. российское правительство активизировало усилия по подчинению народов и земель на крайнем Северо-Востоке Сибири. Причиной этого явилось стремление новоявленной империи закрепить и расширить свои позиции в северной части Тихого океана с целью увеличения доходов казны путем развития торговых связей с Японией, Китаем, американскими колониями Испании, поиска и добычи полезных ископаемых и пушнины, а также овладения морскими путями и контроля над ними. Преследуя эту цель, необходимо было обеспечить прочный тыл — подчинить и привести в подданство население северо-восточных земель. Для решения этой задачи в 1727 г. была создана специальная военная экспедиция, названная позднее Анадырской партией[4]. Ее деятельность, однако, вопреки ожиданиям, привела не к быстрому умиротворению «иноземцев», а к резкому обострению русско-аборигенных отношений в регионе, вылившихся в длительную войну, которая с переменным успехом продолжалась до 1760-х гг.
События, развернувшиеся в 1730–1750-х гг. на Чукотке, Камчатке и в Корякии, представляют собой, пожалуй, самую драматическую страницу истории русского присоединения Сибири, поскольку были насыщены многочисленными сражениями, взятием русских и аборигенных острогов, взаимным ожесточением и немалыми жертвами (особенно со стороны «иноземцев»). В историко-этнографической литературе они до сих пор не получили должного освещения. Даже в исследованиях А. С. Сгибнева[5], С. Б. Окуня[6], И. С. Вдовина[7], И. С. Гурвича[8], которые специально обращались к истории русско-аборигенных отношений в указанном регионе, этот сюжет прописан лишь в самых общих чертах, без необходимой детализации и конкретизации. И в целом состояние историографии по данной проблеме таково, что мы не имеем ответов на многие вопросы, в том числе такие значимые, как причины и факторы, вызвавшие длительное и жесткое противостояние русских и аборигенов и упорное сопротивление последних установлению русской власти, стратегия и тактика русских по подчинению «немирных» иноземцев, расклад сил и потенциал противоборствующих сторон и т. д. В свою очередь, отсутствие обстоятельного анализа русско-аборигенных отношений было обусловлено недостаточным вниманием исследователей к фактографии событий с привлечением всего комплекса сохранившихся источников. В результате в литературе слабо, поверхностно, а иногда даже неверно представлена картина развития русско-аборигенных отношений на крайнем Северо-Востоке Сибири в XVIII в.
В настоящей статье на базе архивных и опубликованных документов, а также наработанного предшественниками материала будет освещен и охарактеризован один из важнейших компонентов русско-аборигенных отношений, во многом диктующий направление их развития, а именно правительственная политика, определявшая основополагающие установки по методам подчинения непокорных народов. Причем основное внимание будет акцентировано на политике в отношении чукчей, эскимосов и коряков, поскольку ительмены после жестокого подавления их восстания 1731 г. были обессилены и прекратили массовое и активное сопротивление.
К моменту активизации русского наступления на Северо-Востоке Сибири в конце 1720-х гг. в активе аборигенной политики российского правительства уже имелись основополагающие и универсальные при покорении любой новой «землицы» установки по взаимодействию с иноземцами и их подчинению. Суть их сводилась к тому, что ради пополнения государственной казны пушниной необходимо было объясачивать аборигенное население с последующим взиманием с него максимального и стабильного ясака. Это, в свою очередь, требовало не только сохранения, но и увеличения численности ясачноплательщиков, невмешательства в их внутреннюю жизнь и даже консервацию их социального устройства. Отсюда декларируемое в правительственных наказах сибирским властям предписание подчинять аборигенов и обращаться с ними «ласкою, а не жесточью», «напрасных обид и налогов не чинить».
Однако, сделав ставку в деле присоединения новых земель и народов на максимальное извлечение с них прибыли, Московское государство рассматривало иноземцев только как потенциальных плательщиков ясака. И это обстоятельство привело к принципиальному противоречию в конкретной политике и тактике правительства и его агентов на местах. С одной стороны, государство постоянно провозглашало миролюбивое и покровительственное отношение к аборигенам, пытаясь оградить их от злоупотреблений и лихоимств, к которым прибегали местная администрация и служилые люди. Но, с другой стороны, оно же требовало безусловного объясачивания иноземцев, рекомендуя воеводам и приказчикам использовать для этого любые способы и меры вплоть до силовых: «А которые будет новых землиц люди будут непослушны и ласкою их под государеву царскую высокую руку привесть ни которыми мерами немочно… и на тех людей посылати им служилых людей от себя из острошку и войною их смирити ратным обычаем». А поскольку пополнение казны являлось делом первостепенным, то и получалось, что в условиях нежелания аборигенов добровольно вносить ясак и идти в подданство служилые люди, действуя в рамках правительственных предписаний, принуждали их к тому силой оружия.
В результате заложенный в правительственной установке приоритет «ласки» над «жесточью» на практике воплощался, как правило, с точностью до наоборот, а провозглашаемая охранительная патерналистски-прагматическая политика государства на этапе присоединения новых территорий превращалась в пустую декларацию и даже фикцию. Более того, указанное выше противоречие в значительной степени было формальным и практически разрешалось в пользу силовых методов, главным инициатором которых в конечном счете было государство. В связи с этим можно согласиться с А. П. Уманским, который пришел к выводу, что «жесточь» в отношении сибирских аборигенов была результатом не только и не столько действий непосредственных исполнителей (воевод и служилых людей), сколько проявлением правительственной политики, поскольку «если бы даже воеводы не были корыстолюбивыми насильниками и т. п., конфликты между царской администрацией и ясашными волостями были неизбежны — во-первых, не кто иной, как царское правительство требовало от воевод собирать ясак полностью, принимать все меры по ликвидации недобора ясака… во-вторых, именно оно настойчиво требовало от воевод „приискивать новые землицы“ и приводить их в подданство, и не только добром, но и силой»[9]. Кроме того, в сибиреведческой литературе уже аксиоматичным является утверждение, что ясачный режим и система ясачного обложения неизбежно порождали злоупотребления со стороны представителей местной администрации и служилых людей, а это являлось сильным дестабилизирующим фактором.
Иначе говоря, силовые методы подчинения аборигенов являлись нормой в действиях землепроходцев и «покорителей», а насилие с их стороны становилось неизбежным фактором русско-аборигенных отношений[10]. Все это усугублялось незнанием или в лучшем случае слабым представлением о культурно-психологических нормативах жизни аборигенов. Как писал М. А. Демин, «стремление подойти к коренным народам Сибири с мерками русского общества XVII в., непонимание особого менталитета туземцев было, пожалуй, слабой стороной… системы взаимоотношений представителей российской государственности с сибирскими автохтонами»[11].
Все эти нормативы вполне проявились в правительственных установках по поводу активизации укрепления и расширения русского присутствия на дальневосточных окраинах Сибири. Рассчитывая на легкое приобретение новых земель и новых подданных, правительство, исходя из предшествующей традиции, ставку сделало на мирные методы. Указы Сената и Верховного тайного совета 1727 г., определявшие эту активизацию и организацию Анадырской партии, призывали к осторожности во взаимоотношениях с иноземцами и рекомендовали уговаривать их в подданство «добровольно и ласкою», дабы они не имели поводов к «озлоблению». Однако при этом создаваемая экспедиция имела характер военного предприятия: она снабжалась вооружением (вплоть до артиллерии) и насчитывала в своих рядах до 400 военнослужилых людей[12].
Но, начиная очередное наступление на восток, правительство, как ни странно, не удосужилось собрать необходимую информацию о тех землях и народах, которые предстояло покорить. Имея лишь самое общее представление о предшествующем присоединении Сибири, когда казаки с относительной легкостью подчинили почти все сибирские народы, руководители тогдашней российской политики посчитали, что и новые земли на тихоокеанском побережье «к содержанию и владению под российскою державою не трудныя, но таковыя, каковы во всей Сибири в поданстве обретаютца»[13] (здесь и далее курсивы в цитатах мои.— А. З.). Только несколько позже, когда подводились итоги Первой Камчатской экспедиции В. Беринга, Сенат в своем «суждении» от 13 сентября 1730 г. вынужден был констатировать, что не было произведено «описания верного о тамошних народах, обычаях, о плодах земных»[14].
Осуществление на практике задач экспедиции привело, тем не менее, к возобладанию силовых методов над мирными. Военные походы казачьего головы А. Ф. Шестакова из Охотска на север вдоль Охотского побережья в 1729–1730 гг., капитана Д. И. Павлуцкого из Анадырска на Чукотку в 1731 и 1732 гг. и в район Пенжинской губы в 1732 г. с целью подчинения и объясачивания коряков и чукчей вызвали активное вооруженное противодействие со стороны последних. Это и неудивительно, поскольку оба руководителя не отличались терпением и умением вести переговоры с «немирными иноземцами», предпочитая дипломатии грубую силу[15]. В результате вместо «умиротворения» деятельность экспедиции вызвала эскалацию напряженности от Камчатки до Чукотки.
Против русских открыли боевые действия коряки с рек Яма, Иреть, Сиглан, Парень, Олютора и полуострова Тайгонос, которые уничтожили несколько русских отрядов, сожгли Ямской острог и вынудили казаков покинуть только что (в 1732 г.) построенный Олюторский острог, нападали на ясачных коряков и юкагиров[16]. Под угрозой оказалось сухопутное сообщение с Камчаткой. В. Беринг позднее, в донесении 1741 г., по поводу выступления коряков сообщал, что «алюторские ясашные мужики изменили и острог тот отбили и казаков тамошних побили, и хотя оной острог от дороги, где путь лежит х Камчатке, и не во близости, токмо и от них имеетца опасность же, понеже они там по времяни везде ходят и на дорогу приходят, ища где что урвать можно»[17].
Чукчи в марте 1730 г. на р. Егаче (впадающей в северную оконечность Пенжинской губы) наголову разгромили отряд А. Ф. Шестакова, убив и самого казачьего голову, а в следующем 1731 г. «в штыки» встретили команду Д. И. Павлуцкого, совершавшую поход по Чукотскому полуострову, дав ей три крупных сражения. И хотя они потерпели в них значительные поражения, тем не менее категорически отказывались идти в подданство. Как отмечал сам капитан в одном из своих отчетов, «оные чюкчи народ непостоянной, не так как протчие иноземцы в ясашном платеже обретаютца»[18].
Вдобавок летом 1731 г. разразилось восстание ительменов, охватившее почти всю южную половину Камчатского острова. Восставшие сумели захватить Нижнекамчатский острог, чуть ли не поголовно перебив его гарнизон и жителей. Почти целый год, до мая 1732 г. казаки при помощи бывшей в то время на Камчатке морской экспедиции под командованием штурмана Я. Генса подавляли «бунтовщиков», жестоко расправляясь с ними[19].
Но, получив информацию о жестком противодействиии аборигенов, правительство и местные сибирские власти все же продолжали декларировать мирные способы их подчинения. Так, Сибирская губернская канцелярия, узнав о разгроме Шестакова, предписала в 1730 г. действовать в отношении коряков исключительно ласкою, уговаривая их миром идти в ясачный платеж[20]. Вслед за этим она же указом от 10 августа 1731 г. рекомендовала Павлуцкому (оставшемуся после гибели Шестакова единственным командиром военной партии) поступать с «немирными» иноземцами в соответствии с прежде данными ему инструкциями и указами, т. е. «призывать в подданство ласкою» и «на чюкоч и на протчих немирных иноверцов войною до указу Е. И. В. не поступать, дабы людям не учинилось какой грозы… а ежели поступать с ними войною, то за малолюдством в тамошнем крае служилых людей не учинилось бы какой траты людям, також их иноверцов не разогнать в другие дальние места»[21]. 1 сентября 1731 г. сибирский губернатор А. Плещеев подтвердил указание Павлуцкому «о призыве в подданство немирных иноземцов чинить по данной инструкции, а войною на них не ходить»[22]. Иначе говоря, категорически запрещалось применение военной силы, поскольку существовало опасение потерпеть новое поражение.
Через два года правительство уделило пристальное внимание ситуации на Камчатке. 11 марта 1733 г. Сенат, рассмотрев поступившие к нему документы по поводу восстания ительменов (донесения охотского командира и Сибирской губернской канцелярии, экстракты допросов лиц, причастных к восстанию и его подавлению), признал, что «большою причиною бунта» стали «несносные обиды комиссарские» (т. е. управителей камчатских острогов и ясачных сборщиков) и «их злые и разорительные с таким диким народом поступки». Определив таким образом главными виновниками происшедшего восстания представителей администрации, сенаторы в своем докладе императрице рекомендовали проявить снисходительность по отношению к ительменам, казнив из них только «одних пущих заводчиков», а «прочих от смертной казни освободить, для того, что народ дикий и пущую причину к бунту имели от озлобления своих управителей», зато в отношении «обидчиков» принять самые жесткие меры: «о тех комиссарах и подчиненных их, на которых оные бунтовщики показали разорение свое и обиды, жесточае розыскивать и самих их, смотря по доказательству и винам, пытать… и кто явятся пущие разорители, таких, не отписываясь за дальностию, казнить смертию, дабы другие такие ж командиры имели страх и от таких злых поступок воздерживались». Кроме того, Сенат предлагал послать на Камчатку для публичного объявления императорские указы, которыми, во-первых, объявить инородцам «милость и призрение» и обнадежить, что их «пущие разорители» будут казнены, «взятые с них лишние сборы и пограбленныя их имения» и побранные в холопы родники возвращены и впредь им будут даны указы с разъяснением порядка ясачного сбора, а, во-вторых, призвать всех служилых людей повиниться в злоупотреблениях и лихоимствах, обещая за это смягчение наказания[23].
9 мая 1733 г. императрица Анна Иоанновна полностью утвердила предлагаемые Сенатом меры[24], и в тот же день появился соответствующий именной указ[25]. Вскоре, 21 мая 1733 г., появился обещанный для публичного объявления указ «о нечинении обид и притеснений ясачным людям, живущим в Якутском ведомстве и в Камчатке». В указе говорилось, что для пресечения злоупотреблений посланы следственные комиссии, «которым повелено в вышеупомянутых разорениях и обидах не только жестоко разыскивать, но самих разорителей и смертью казнить, а взятые с них лишние сборы и пограбленные их имения, сколько отыскано будет, возвращать». Кроме того, ясачным людям указывалось, чтобы они «лишних никаких ясаков и взяток воеводам, комиссарам и сборщикам, которые они с них своим вымыслом с разорением неволею брали, не давали». Для всеобщего обозрения этот указ было повелено как в Якутске и Охотске, так и во всех острогах, зимовьях и волостях, укрепить на специально установленных столбах, «и хранить, чтобы всегда всем был известен», помимо этого раздать князцам и старшинам «каждого народа», «и сверх того, при платеже ясачном толмачам перетолмачивать всем вслух, на их языке»[26].
Рассматривая предлагаемые меры правительства по наведению порядка на Северо-Востоке Сибири, нетрудно заметить, что оно, по крайней мере на уровне официальных заявлений, продолжало в отношении аборигенов четко придерживаться принципа «не жесточью, а ласкою», пытаясь защитить их от произвола со стороны местных управителей и служилых людей. В то же время также очевидно (и это уже отмечалось в литературе), что за этим принципом стоял холодный казенный расчет: аборигены являлись действительными или потенциальными ясачноплательщиками, соответственно, необходимо было сохранять и даже увеличивать их численность, а также поддерживать порядок в ясачном сборе, чтобы пушнина поступала в казну, а не в карманы ясачных сборщиков.
Правда, все эти правительственные декларации и благие пожелания с трудом воплощались в жизнь, а то и вовсе оставались на бумаге. На той же Камчатке, где по итогам следствия, проведенного Розыскной канцелией под руководством В. Мерлина и Д. Павлуцкого, в 1735 г. было казнено четверо, подвергнут телесным наказаниям 61 служилый человек, а все прочие казаки, смотря по их вине, оштрафованы[27], «лихоимства», хотя и сократились, но не прекратились вовсе. В частности, в 1738 г. под суд за незаконные поборы с ительменов попали камчатский управитель М. Латышев, ясачный сборщик Аргунов и несколько казаков[28].
Равным образом давала сбой и установка на мирное взаимодействие с непокорными народами. Непосредственные исполнители правительственных предписаний на местах предпочитали действовать в рамках уже сложившегося ранее, в «эпоху землепроходцев», стереотипа взаимоотношений с аборигенами, делая ставку на силовые методы. Наиболее наглядно подобную «тактику войны» продемонстрировал командир Анадырской партии казачий сотник В. Шипицын.
Летом 1740 г. он с отрядом казаков, совершая поход по р. Анадырь, в урочище Чекаево встретился с крупными силами чукчей. Не рискуя вступить с ними в сражение, сотник предложил чукотским тойонам вступить в переговоры. Последние откликнулись на это предложение и безоружными прибыли в казачий лагерь, оставив своих воинов далеко от него. Однако Шипицын вместо того, чтобы воспользоваться шансом установить с чукчами мирные отношения, приказал своим казакам перебить чукотских вождей. В результате казаками вероломно были зарезаны 12 тойонов, после чего они атаковали и разогнали чукчей, оставшихся без предводителей[29]. Подобная военная хитрость Шипицына, будучи тактически несомненно удачной, стратегически принесла огромный вред, поскольку на долгие годы подорвала веру чукчей в мирные намерения русских.
А вскоре и на правительством уровне произошел пересмотр принципиальных установок в отношении северо-восточных народов — чукчей и коряков, не желающих идти в российское подданство и оказывающих активное сопротивление. Толчком к этому послужила активизация чукчей, которые, оправившись от поражений начала 1730-х гг., в 1737–1741 гг. осуществили несколько крупных грабительских набегов на оленных юкагиров и коряков и, по некоторым сведениям, угрожали даже захватить Анадырский острог: «в Анадырску руских людей смерти предать и острог Анадырской огнем зжечь и пуст сотворить»[30]. Чукотские набеги напрямую задевали русские интересы в регионе, поскольку разгрому подвергались «верноподданные» ясачные, что наносило ущерб казне, да к тому же подрывало авторитет русской власти, которая оказалась не в состоянии их защитить.
Сибирский приказ, получив информацию о чукотских набегах, в срочном порядке 29 апреля 1740 г. разослал в Иркутск, Якутск и Охотск указы с предписанием «коряк и протчих тамошняго ж народа подданных Е. И. В. ясашных и руских людей до раззорения не допускать, и от носовых и решных чюкч и от прочих немирных народов иметь крепкую предосторожность»[31]. Через месяц, 21 мая 1740 г., состоялось первое заседание Кабинета министров, специально посвященное «чукотской проблеме». В ходе ее обсуждения один из министров, князь А. М. Черкасский, высказал мнение: «того не довольно, что впредь только одну иметь от тех чюкч предосторожность, но вышеписанное разорение надлежит им отмстить и самих в конец разорить и старатца их в подданство привесть, и для того, собрав из ближних тамошних мест людей, военною рукою на них итти». С этим полностью согласился другой министр Г. И. Остерман, предложив немедленно отправить соответствующие указы[32].
В результате этого и последующего обсуждений Кабинет министров и Сенат издали три указа (4, 6 июня и 6 июля 1740 г.), предписывающие иркутскому вице-губернатору Л. Лангу, «собрав из ближних к Якуцку городов и жилищ, також из якуцких и Анадырского острога служилых людей и обывателей, сколько потребно, и определя к ним достойных командиров из гарнизонных офицеров, с принадлежащим оружием, и велеть оным итти на немирных чюкч военною рукою и всеми силами старатца не токмо верноподданных Е. И. В. коряк обидимое возвратить и отмстить, но их, чюкч самих в конец разорить и в подданство Е. И. В. привесть»[33].
Однако вскоре это распоряжение было дезавуировано. 25 ноября 1740 г. Сенат обратился в Кабинет министров с предложением отказаться от походов на Чукотку: «по неудобности того пути и отдалению для раззорения их немирных чюкч команды посылать не надлежит, дабы в таком отдаленном и трудном пути, по которому потребного в пищу запасу возить с собою за неудобность признаваетца, напрасно людей не потерять и голодом не поморить». Хотя при этом сенаторы посчитали все же необходимым увеличить в Анадырском остроге воинскую команду, «чтоб впредь от тех чюкч нечаянного на коряк и Анадырской острог нападения и раззорения не было». Кабинет министров 14 января 1741 г. согласился с этим представлением, приказав «в Чукотскую землицу для разорения живущих тамо чукоч… за весьма дальним и неудобным путем … оруженных людей не посылать, а для предосторожности впредь от помянутых чукч прибавить в Анадырский острог регулярных и нерегулярных лехких людей», добавив при этом, чтобы иркутский вице-губернатор обстоятельно выяснил, почему между чукчами и коряками ссоры происходят, и «старался их наипаче ласканием, нежели суровыми поступками от того отвратить и усмирить и до дальнейших ссор не допустить». Предложения Сената и резолюция Кабинета были окончательно оформлены в сенатском указе 29 января 1741 г.[34].
Но через год правительство, получив сообщение об очередном нападении чукчей на оленных коряков, все же отказалось от своего «миролюбия» и решилось на безусловное подчинение чукчей военными средствами. На этот раз инициатором жестких мер выступил иркутский вице-губернатор Л. Ланг, настаивавший на полном истреблении всех сопротивляющихся русской власти. По его предложению Сенат 3 февраля 1742 г. принял резолюцию, а 18 февраля издал указ, который гласил: «на оных немирных чюкч военною оружейною рукою наступить и искоренить вовсе; точию которыя из них пойдут в подданство Е. И. В, оных, так же жен их и детей взяв в плен, и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в якуцком ведомстве по разным острогам и местам между живущих вероноподданных, где пристойно»[35]. Иначе говоря, предлагалось уничтожить всех чукчей, оказывающих вооруженное сопротивление, а сдавшихся и захваченных в плен увести с полуострова, расселив по Якутии.
Для претворения в жизнь этих намерений в Анадырск в 1742 г. вновь был направлен Павлуцкий, а численность Анадырской партии к октябрю 1744 г. доведена до 479 чел.[36]. В 1744–1746 гг. эта партия при поддержке верноподанных ясачных коряков и юкагиров совершила три похода (вглубь Чукотского полуострова, вниз по р. Анадырь и к Чаунской губе). Павлуцкий, как и ранее, практически не прибегал к дипломатии, предпочитая действовать против чукчей методами подавления и устрашения. В частности, по поводу одного из его походов анадырские казаки позднее сообщили, что их начальник «чукоч, не призывая в подданство, побил до смерти»[37]. Правда, последние по-прежнему наотрез отказывались идти в подданство, а в марте 1747 г. в ходе очередного набега на анадырских оленных коряков сумели даже наголову разгромить русский отряд, бросившийся на защиту своих союзников-ясачных. В этом сражении погиб и Павлуцкий[38].
Установки 1740 и 1742 гг. в «чукотском вопросе» достаточно быстро были распространены и на коряков, значительная часть которых в 1745 г. подняла восстание, охватившее практически всю «корякскую землицу». Начался очередной этап русско-корякской войны, сопровождавшийся активными боевыми действиями и взаимным ожесточением. Как только начался корякский «бунт», охотский командир А. Зыбин и командир Анадырской партии Д. Павлуцкий, в ведомстве которых находилась территория обитания коряков, сразу же, в том же 1745 г., обратились в Иркутскую провинциальную канцелярию с предложением «всех изменников коряк военною оружейною рукою побить и вовсе без всякого милосердия искоренить». При этом Павлуцкий в своем рапорте от 12 декабря 1745 г. особо обращал внимание на то, что «миролюбие» и «милосердие» русских властей расценивается коряками как проявление слабости и провоцирует их на измену: «за прежния их бунты и измены никакой по силе Е. И. В. указов им, пущим бунтовщикам и изменникам, казни не было, но оное де они кладут себе в великую похвалу и удачу» и «те де иноземцы чинятся ослушны и ясак де платят повольно без аманатов»[39].
Иркутский вице-губернатор Л. Ланг, будучи сам сторонником решительных действий против «изменников», полностью поддержал инициативу «с мест». В своих распоряжениях второй половины 1740-х гг. — начала 1750-х гг. он предписывал охотским и анадырским властям «с изменниками коряками», а также с чукчами, «буде они добровольно по уговорам даватся не станут и учнут противится», «поступить яко со злодеями оружейною военною рукою и всеми силами стараться… всех безо всякого милосердия побить и вовсе искоренить…», и только тех, кто не будет оказывать сопротивление, пойдет в ясачный платеж, даст шерть (присягу) и аманатов, «не побивать и ни малейшаго раззорения не чинить»[40]. Эта тактика подтверждалась и на правительственном уровне (указы и резолюции Сената 15 января 1747 г.[41], Сибирского приказа 17 сентября 1752 г.[42]).
Все эти указы, начиная с 1740 г., означали решительное смещение акцентов в российской политике в отношении чукчей и коряков с мирных методов («ласкою и приветом») к военным («оружейною рукою»). Точнее говоря, признавая и ранее силовое давление как важнейшее средство приведения в подданство, но рассматривая его лишь как крайний вариант, правительство в 1740-е гг. отдало ему безусловный приоритет, провозгласив войну и поголовное истребление непокорных единственным способом «умиротворения» чукчей и коряков. И надо заметить, что к таким способам во взаимоотношениях с сибирскими аборигенами, даже «бунтовщиками» и «изменниками», российская власть прибегала впервые[43]. Правда, подобная откровенно жесткая установка распространялась только на тех, кто оказывал сопротивление. «Добровольно» признавшим подданство обещалось сохранение жизни и имущества, хотя им могло угрожать массовое переселение подальше от «породных» земель, как это требовалось сделать с чукчами. Последнее, кстати, также было принципиальной новацией в русской аборигенной политике в Сибири.
Указанная «смена вех» в подходе к разрешению чукотской и корякской проблем определялась, конечно, развитием ситуации в самом регионе, когда все чукчи и значительная часть коряков упорно не принимали российское подданство, оказывая вооруженное сопротивление. Причем если чукчи преимущественно оборонялись, то коряки (охотские и камчатские) нередко переходили в наступление, нанося русским существенный урон, подрывая авторитет и позиции российской власти на дальневосточных рубежах империи. Вдобавок к этому опыт общения с коряками показал, что им нельзя доверять: они с легкостью нарушали принесенную присягу, вводили русских в заблуждение своей показной покорностью, не держались аманатов и в любой момент готовы были, усыпив бдительность противника, нанести удар. Следствием этого стало формирование к концу 1740-х гг. русского взгляда на коряков и чукчей как на «закоренелых злодеев», которым «по их азиатскому непостоянству» верить нельзя, а, соответственно, разговаривать с ними можно только «через прицел винтовки».
Так, Иркутская провинциальная канцелярия в указах начала 1750-х гг. неоднократно отмечала следующий факт: «оленные и пешие коряки из давных лет быв под российскою державою и в ясашном платеже, неоднократно бунтовали и верноподданных русских людей и ясашных людей побивали, и между тем по прежнему приходили в подданство и в ясашный платеж и, зловымышленно объявя себя верноподданным народом ласковыми, и изождав… оплошности, нечаянно смертно побивали и изменя бунтуют, а хотя де с них для верности и берутца аманаты, однако ж де они по закосненному азиатскому непостоянству, оставя сожаление о тех аманатов, бунтуют же и верноподданных без всякой притчины немилосердно убивают и не только на русских оружие свое поднимают, но своих родников коряк же, кои русским чинят в походах вспоможение, нещадно военною рукою умертвляют и всегда всеми мерами тщатся злодействовать». Констатировав, что корякам «в их верности твердой надежды нет», канцелярия рекомендовала охотским и анадырским начальникам ни в коем случае не верить тем «изменникам», которые «склоняться будут якобы по прежнему в подданство», а «всеми силами стараться… всех побить и в конец раззорить без всякого сожаления»[44]. Аналогичные указания Иркутская канцелярия давала командиру Анадырской партии и по поводу чукчей: «велено ему в поиске неприятелей чюкч и во искоренении их, яко всегдашних злодеев, военною рукою без всякого милосердия, не приемля того, что они будут якобы склонятца в подданство… стараться»[45]. В свою очередь охотский и анадырский командиры соответствующим образом наставляли руководителей карательных отрядов. Но, таким образом, получалось, что правительственные рекомендации не применять силу к принявшим подданство иноземцам практически дезавуировались, поскольку никаким их обещаниям и присягам нельзя было верить, а, соответственно, оставалось только одно — «всех безо всякого милосердия побить и вовсе искоренить».
При этом важно отметить, что «бунтующие» коряки и чукчи к середине XVIII в. однозначно рассматривались правительственными инстанциями как бывшие подданные, впавшие в измену — «отпадшие из подданства Е. И. В. воры чюкчи и коряки».
Русская оценка коряков как «изменников» в значительной степени соответствовала действительности, так как значительная их часть в разное время уже стала ясачными, а, соответственно, подданными, и только после этого вышла из подчинения. В отношении чукчей применение эпитетов «изменники» и «воры» являлось, однако, неправомочным, поскольку обитатели Чукотки никогда не признавали своего подданства русским и не платили ясак. Появление же восприятия чукчей как «отпадших из подданства» объясняется, видимо, тем, что к середине XVIII в. в правительственных инстанциях по-прежнему отсутствовали сведения и представления о самих чукчах, не было там и никакой информации по истории русско-чукотских отношений. Следовательно, лица, принимавшие решения по «чукотской проблеме», просто не знали, что чукчи никогда не входили в состав подданных российской короны. С другой стороны, после экспедиций В. Беринга вся северо-восточная оконечность Сибири считалась уже частью Российской империи (что нашло отражение на географических картах, в частности, в «Атласе Российском, состоящим из девятнатцати специальных карт», изданном в 1745 г.), а значит, и все ее обитатели, включая чукчей, рассматривались как «подданные». В связи с этим можно привести реакцию Коллегии иностранных дел в 1751 г. на запрос Военной коллегии по поводу внешнеполитической ситуации на северо-востоке империи: «Из той Коллегии иностранных дел сообщено ж, что оная коллегия из Атласа Российского усматривает: тот народ, чукчи, кочевье свое имеет в самом углу между Северным Ледовитым и Восточным Тихим морем, а в соседстве им с южной стороны подданные коряки, а разделяют их река Анадырь и российский Анадырский острог, а от Ледовитого моря подданные ж якуты, а разделяет их река Колыма и 3 российския по оной зимовья или остроги, других же от России заграничных народов никаких там нет; и тако сие дело стало быть не заграничное, но внутреннее»[46].
Пиком «милитаризации» политики в отношении чукчей и коряков, пожалуй, можно считать передачу в 1752 г. Анадырской партии из ведения гражданских властей — Иркутской провинциальной канцелярии — в прямое подчинение военным — командующему войсками, дислоцированными в Сибири, генерал-майору Х. Киндерману, а через него Военной коллегии[47]. Однако сразу же вслед за этим последовал постепенный отказ от силовых методов и возврат к прежней модели подчинения «иноземцев», более того, правительство решительно отрицает вообще какие-либо военные акции, сделав ставку исключительно на мирные переговоры. Этот перелом произошел во второй половине 1750–1760-х гг. и связан был с рядом обстоятельств, из которых в рамках данной статьи мы обозначим кратко лишь важнейшие.
Во-первых, развернувшиеся в 1740 — начале 1750‑х годов на Северо-Востоке боевые действия потребовали от русских значительных сил и средств, как материальных, так и людских. По подсчетам, сделанным в 1763 г. командиром Анадырской партии Ф. Х. Плениснером, на содержание партии за все время ее существования было израсходовано 1 381 007 руб. 49 коп., тогда как в приходе от ясачного и других сборов по Анадырскому ведомству оказалось всего 29 152 руб. 54 коп.[48]. К это-
му можно добавить и значительные траты на обеспечение отрядов, действовавших против коряков из Охотска. Получалось, что главная цель организации партии — покорение новых земель и народов ради пополнения казны — не только не была выполнена, но, наоборот, результаты ее деятельности были прямо противоположны поставленной цели: расходы колоссально превзошли доходы.
Во-вторых, в ходе активного наступления на коряков во второй половине 1740-х — первой половине 1750-х гг. с трех сторон: из Анадырска, Охотска и камчатских острогов удалось не только нанести им поражение, существенно подорвав их военный потенциал (в результате массовой гибели боеспособных мужчин-коряков), но и наконец-то прочно обосноваться на корякской территории, построив там ряд крепостей, позволявших держать коряков под более бдительным контролем. В результате обессиленные от многолетней борьбы, потеряв к 1760-м гг. по сравнению с началом века более половины своего населения[49] и многие укрепленные поселения, разрушенные русскими, коряки к концу 1750-х гг. полностью прекратили сопротивление и признали свое подданство русской власти. К этому их подтолкнули и грабительские набеги чукчей, защиту от которых они пытались найти у русских. Таким образом, в отношении коряков установка на силовые методы выполнила свое предназначение, но вместе с тем потеряла и свою актуальность.
Зато взаимоотношения с чукчами, и это в-третьих, развивались по иному сценарию. После разгрома отряда Павлуцкого в 1747 г. активность русских в направлении Чукотки резко упала. С 1748 по 1755 г. Анадырская партия провела семь походов на чукчей, не заходя, однако, вглубь Чукотского полуострова, а ограничиваясь нижним течением Анадыря. Сами чукчи также старались избегать столкновений с русскими отрядами, хотя охотно грабили ясачных оленных юкагиров и коряков. К середине 1750-х гг. стала очевидной бесперспективность попыток подчинить чукчей путем эпизодических карательных походов, а планы по строительству на их территории русских крепостей оказались совершенно невыполнимы. Иначе говоря, стало ясно, что в отношении чукчей военные усилия русских не дают требуемого эффекта.
В-четвертых, к этому времени вполне обозначилась смена вектора русского движения на восток. Если до середины XVIII в. Чукотка рассматривалась как один из плацдармов расширения российских владений на территорию Северной Америки, то после начала в 1740-х гг. плаваний русских промышленников к Аляске вдоль Алеутских островов она потеряла это значение. В результате стратегический статус «Чукотской землицы» кардинально изменился. В петровское время и чуть позже ее покорение осмысленно увязывалось с поиском и продвижением на «Большую Землю» — в Америку, а в начале 1760-х гг. сенатор Ф. И. Соймонов уже недоумевал, зачем понадобилось посылать военные партии на Чукотку: «неизвестно, по каким бы то причинам: завоевать ли ту пустую и вовсе бесплодную землю, или для единого распространения российских пределов»[50].
В-пятых, к началу 1760-х гг. благодаря в первую очередь усилиям Ф. Х. Плениснера в распоряжении правительства наконец-то оказались первые описания Чукотки и чукчей, из которых стало ясно, что ожидать от последних прибыли в казну совершенно бессмысленно, поскольку «Чукоцкую землю.. можно назвать последнейшею и беднейшею всего земного круга в последнем краю лежащую»[51]. В результате Сенат в майском 1764 г. докладе императрице Екатерине II пришел к мнению, что «чукоч, в разсуждении лехкомысленного и зверского их состояния, також и крайней неспособности положения мест, где они жительство имеют, никакой России надобности и пользы нет и в подданство их приводить нужды не было»[52].
Все эти обстоятельства заставили правительство пересмотреть свои установки в отношении «немирных» иноземцев, прежде всего чукчей. Первым шагом стали сенатский указ и инструкция, данные И. С. Шмалеву, назначенному в декабре 1752 г. командиром Анадырской партии. В них, помимо прежних наставлений «искоренять» «бунтовщиков» и «изменников», уже содержались указания начать с ними мирные переговоры: «призвав из них лутчих людей, уговаривать, буде же не послушают, то поступать с ними яко с неприятели, однако ж без крайней нужды»[53]. Шмалев, прибыв в Анадырск, прекратил военные акции против чукчей и дважды, в 1755 и 1756 г., вступал с ними в мирные переговоры, которые, однако, не дали желаемого успеха[54].
В 1754 г., по предложению сибирского губернатора В. Мятлева, Анадырская партия была возвращена в ведение иркутского вице-губернатора[55]. Чуть позже, в инструкции 1757 г., данной Мятлевым охотскому командиру В. Шипилову, в последний раз на уровне правительственных распоряжений прозвучали наставления жестко действовать против «изменных» коряков с целью их поголовного «искоренения»: «ежели они непременно в своей злости пребудут и ни по каким ласковым уговорам в склонность и в верность не придут и набегов для раззорения и убивства чинить не престанут, а всегда теми предосторожными командами побеждаемы и побитием их умаляемы будут, то не по долгом времяни и все оныя бунтовщики без остатку искоренятца, а верноподданные народы в покое остатца могут»[56]. Но к этому времени «идея» силового давления на коряков уже потеряла смысл, поскольку последние начиная с середины 1750-х гг. в массовом порядке стали прекращать вооруженное сопротивление, облагаться ясаком и принимать российское подданство[57].
Вскоре в аборигенной политике правительства произошел кардинальный поворот от войны к миру. Он был связан с именами сибирского губернатора в 1757–1763 гг. Ф. И. Соймонова и анадырского командира в 1760–1764 гг., а затем главного начальника Охотско-Камчатского края в 1764–1772 гг. Ф. Х. Плениснера. Первый, будучи принципиальным сторонником патерналистско-охранительного отношения к «иноземцам», еще в 1757 г. в наставлении иркутскому купцу И. Бечевину, намеревавшемуся плыть с Камчатки вокруг Чукотки, приказывал «как живущим на островах подданным ясашным, так, ежели сыщут, и таких народов, которыя еще не под областию Российской империи, отнюдь никаких обид и не малейших озлоблений… не чинили, но обходились бы с ними… со всякою ласкою»[58]. 7 ноября 1760 г. он посылает в Сенат донесение, в котором высказывает мнение, «что надлежит отныне с теми чукоцкими и протчих разных и многих родов иноверцами бунтовщиками при склонении оных в российское подданство к платежам ясаков не столько военною и оруженною рукою поступать, сколько ласкою, благодеянием и добрым с ними обхождением», поскольку применение силы оказалось безполезным[59]. Вслед за этим Соймонов поручает Плениснеру собрать известия о деятельности Анадырской экспедиции: «для чего оная учреждена и какая ис того польза, також о числе тамошнего народа и о собираемых с них ясаках на какую сумму всего оного в зборе бывает, також и на всю ту экспедицию казенных росходов исходит»[60]. Затем инструкцией от 20 февраля 1761 г. Плениснер получает от Соймонова задание не оказывать на чукчей военного давления, добиться мирного приведения их в подданство — «без воинских действ ласкою» — или хотя бы в «мирную соседнюю дружбу», а также найти способы прекратить вооруженные столкновения между чукчами и коряками, которые дестабилизировали обстановку в регионе[61].
Плениснер, прибыв в Анадырский острог в 1763 г., вступил в переговоры с чукчами, закончившееся взятием с них небольшого ясака[62]. Затем, внимательно ознакомившись с ситуацией и историей русско-аборигенных отношений (по материалам анадырского архива и распросам анадырцев-старожилов), а также собрав информацию о чукчах и коряках, он в октябре 1763 г. отправляет Соймонову обширное «Представление», в котором обосновывает необходимость упразднения Анадырской партии, ликвидации Анадырского острога и сокращения численности вооруженных сил на крайнем Северо-Востоке Сибири[63]. Соймонов, который с 1763 г. был уже сенатором[64], горячо поддержал инициативу Плениснера (см. его «Предложения» в Сенат от 19 ноября 1763 г.[65]). При этом оба апеллировали к тому, что на Анадырскую партию затрачены огромные финансовые и материальные средства, тогда как отдача от ее деятельности фактически равна нулю: чукчи в подданство не приведены, чукотско-корякско-юкагирские столкновения не прекратились и, более того, «иноземцы», «вместо того, чтобы от российских регулярных войск защищаемы были, но от тех же команд, во первых, в крайне раззорение приведены, а притом от них так озлоблены, что в дальные места откочевали»[66].
Сенат согласился с закрытием Анадырской партии, признав, что она «бесполезна» и «народу тягостна». В мае 1764 г. в докладе Екатерине II сенаторы констатировали: «В разсуждении лехкомысленного и зверского их (аборигенов.— А. З.) состояния, також и крайней неспособности положения мест, где они жительство имеют, никакой России надобности и пользы нет и в подданство их приводить нужды не было»[67]. Тем самым получалось, что все предшествующие усилия по присоединению крайнего Северо-Востока Сибири признавались бессмысленными.
4 мая 1764 г. появился императорский указ «об отмене сибирской отдаленной Анадырской экспедиции и о выводе из Анадырского острогу военной команды»[68]. В 1765 г. из Анадырска начался вывод гарнизона и гражданского населения (в Гижигинскую и Нижнеколымскую крепости). Он закончился к 1771 г., когда крепостные и все прочие постройки в Анадырске были разрушены. Форпост русской власти на Северо-Востоке Сибири, более ста лет служивший опорной базой подчинения чукчей и коряков, перестал существовать.
Это событие ознаменовало окончательный поворот в русской аборигенной политике от силовых методов к мирным. Начиная с 1760-х гг. русско-аборигенное вооруженное противостояние в регионе сменяется мирным взаимодействием. С этого времени не отмечено уже ни одного случая военного столкновения русских с коряками, которые окончательно признали себя ясачными и российскими подданными. С чукчами отношения также выстраивались по мирному пути. Более того, их отдельные группы стали сами проявлять инициативу в установлении контактов с русскими с целью торгового обмена. Правда, данный процесс чуть было не сорвали неоправданные действия командира Гижигинской крепости Я. М. Пересыпкина, который, не разобравших в ситуации, приказал атаковать группу чукчей, прибывшую в 1775 г. к Гижигинской крепости с изъявлением желания принять российское подданство. Произошедший «чукотский погром» мог привести к началу нового русско-чукотского вооруженного противостояния. Но ситуацию спасли умелые действия прибывшего на смену Пересыпкина Т. И. Шмалева, который благодаря изучению истории и этнографии Северо-Востока Сибири хорошо разбирался в русско-аборигенных отношениях[69].
К этому времени российское правительство, хотя и отказалось от силового давления на чукчей, вновь активизировало усилия по подчинению Чукотки. Необходимость этого диктовалось стремлением включить-таки северо-восточную оконечность Сибири в состав Российской империи ввиду усиления внимания Англии и Франции к северной части Тихого океана (в последней четверти XVIII в. к российским владениям на Дальнем Востоке выходили экспедиции Дж. Кука, Г. Диксона и Н. Портлока, Ж. Лаперуза, У. Дугласа, Ч. Дункана, Дж. Ванкувера и др.).
26 января 1776 г. Екатерина II указала приложить все усилия для принятия в российское подданство чукчей. С этой задачей в Гижигинскую крепость, которая после ликвидации Анадырска стала ближайшим к Чукотке русским поселением, и был отправлен Т. И. Шмалев. Ему при помощи крещеного чукчи Н. Дауркина удалось разрешить конфликт, возникший из-за действий Пересыпкина, а в марте 1778 г. провести успешные переговоры с «главным» чукотским тойоном Омулятом Хергынтовым и заключить с ним договор о принятии российского подданства[70]. И хотя этот договор на деле имел локальный характер, поскольку распространялся только на те чукотские стойбища, которые признавали власть Омулята, Шмалев, а с его подачи и правительство расценили данное событие как признание подданства всеми чукчами. В результате в 1779 г. Екатерина II объявила чукчей подданными Российской империи[71].
Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что на протяжении XVIII в. правительственная политика в отношении аборигенов крайнего Северо-Востока Сибири — чукчей, эскимосов и коряков — не оставалась статичной и дважды претерпела принципиальные изменения. До начала 1740-х гг. она характеризовалась приверженностью традиционным установкам во взаимоотношениях с «иноземцами», когда пытались сочетать два метода их приведения в подданство и ясачный платеж — «ласку» и «жесточь», отдавая приоритет в формальных декларациях мирным уговорам, а в практических действиях — силовому принуждению. В 1740–1742 гг. последовал первый решительный пересмотр прежних установок: даже на уровне декларативных заявлений власть отказалась от попыток мирными средствами решить «чукотскую» и «корякскую» проблемы и в деле подчинения «немирных иноземцев» сделала ставку на войну. Более того, принципиальным новшеством в русской аборигенной политике в Сибири стало стремление к поголовному уничтожению всех чукчей и коряков, не желающих «добровольно» принять русское подданство и оказывающих этому вооруженное сопротивление. Данная установка на безжалостное искоренение «бунтовщиков» и «изменников» была исключением на фоне проводимой в то время патерналистско-охранительной государственной политики в отношении сибирских аборигенов.
Во второй половине 1750-х — первой половине 1760-х гг. правительство вновь кардинально меняет стратегические и тактические подходы к урегулированию ситуации на северо-восточной окраине империи. Оно полностью отказывается от применения военной силы, которая выполнила свою задачу в отношении коряков, но оказалась совершенно неэффективной в отношении чукчей, и пытается опробовать новый сценарий взаимодействия с непокорными «иноземцами»: мир любой ценой. В результате начавшиеся в середине 1750-х гг. переговоры русских властей (сначала командира Анадырской партии, затем командира Гижигинской крепости) с главами отдельных чукотских стойбищ закончились в конце 1770-х гг. официальным принятием чукчей в состав подданных Российской империи. Правда, до реального подчинения обитателей Чукотского полуострова было еще далеко. Даже в середине XIX в. правительство признавало, что чукчи относятся к народам, «не вполне покоренным»[72], а в конце того же века известный этнограф В. Г. Богораз, проведших несколько лет на Чукотке, замечал, что они находятся вне всякой сферы русского влияния[73].