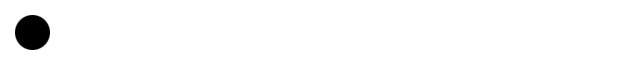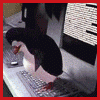Павлов Платон Васильевич (1823-1895) был в 1861 году избран профессором русской истории Петербургского университета.
В начале 1862 года в Петербурге в зале Кононова (Большая Морская, 16) Литературный фонд проводил очередной вечер для сбора средств в помощь нуждающимся литераторам. Платон Васильевич произнёс взволнованную речь о тысячелетии России, в которой он позволил себе несколько довольно либеральных фраз, на которые, скорее всего, никто и не обратил бы особенного внимания, если бы он не закончил своё выступление следующим образом:
"Россия стоит теперь над бездной, в которую мы и повергнемся, если не обратимся к последнему средству спасения, к сближению с народом. Имеяй [имеющий] уши слышать - да слышит!"
За эту речь бедного Павлова лишили должности и административным порядком выслали в Костромскую губернию, но вскоре разрешили жить в самой Костроме, а в 1866 году его и вовсе простили и разрешили вернуться.Выступление Чернышевского
На этом же вечере выступал и Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889), много говоривший о недавно умершем Николае Александровиче Добролюбове (1836-1861).
Павел Дмитриевич Боборыкин (1836-1921) с любопытством ожидал этого выступления:
"Добролюбов был мой земляк и однолеток... и мне было в высшей степени интересно послушать о нём, как личности и литературной величине от его ближайшего коллеги по журналу, сначала его руководителя, а потом уступившего ему первое место как литературному критику “Современника”".
Однако, и сам Чернышевский, и его выступление Боборыкина очень сильно разочаровали:"Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы “a la moujik” (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет; одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и в цветном галстуке.
И как он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, что он говорил, — всё это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всём, что он тут говорил о Добролюбове — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто, напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрён был два-три года спустя его роман “Что делать?”
Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперёд Добролюбова и показать, что он — Чернышевский — нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова, что тот сразу сделался в журнале величиной первого ранга.
В сущности, это было симпатично; но тон всё портил.
Может быть, на меня его манера держать себя и бесцеремонность этой импровизированной беседы подействовали слишком сильно; а я по своим тогдашним знакомствам и связям не был достаточно революционно настроен, чтобы всё это сразу простить и смотреть на Чернышевского только как на учителя, на бойца за самые крайние идеи в радикальном социализме, на человека, который подготовляет нечто революционное".
"Сколько помню, публика на том вечере не сделала Чернышевскому особенно громкой овации, и профессор Павлов имел гораздо более горячий приём, что его и загубило".
Герцен и Чернышевский в Лондоне
Летом 1859 года Чернышевский совершил срочную поездку в Лондон для свидания с Александром Ивановичем Герценом (1812-1870), который в своём “Колоколе” осудил резко обличительную политику “Современника”, проводившуюся Некрасовым и Добролюбовым. Я говорю о статье Герцена “Very dangerous!”, напечатанной в 44-м выпуске “Колокола”, где Александр Иванович осуждал выпады “Свистка” (сатирический раздел “Современника”) против либеральной критики, которая затрагивала недостатки только низших слоёв государственной власти. Герцен тогда считал, что свобода слова и критики должны развиваться постепенно и, в частности, написал:
"Милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего, Боже сохрани) и до Станислава на шее..."
Некрасов с Добролюбовым почувствовали себя обиженными и захотели добиться от Герцена опровержения своих же слов, так что по требованию последних Чернышевский и рванул в Лондон для свидания с Герценом, но сведений об их двух встречах в Англии до обидного мало.
Одно из свидетельств о лондонских встречах принадлежит Максиму Алексеевичу Антоно́вичу (1835-1918), который выпытывал у Чернышевского подробности о его свидании с Герценом сразу же после возвращения того из Лондона. Чернышевский был скуп на подробности, и вот что сообщает Антоно́вич, передавая слова своего шефа:
"Явившись к нему, я разоткровенничался, раскрыл перед ним свою душу и сердце, свои интимные мысли и чувства, и до того расчувствовался, что у меня в глазах появились слезы, – не верите, ей Богу, уверяю вас. Герцен несколько раз пытался остановить меня и возражать, но я не останавливался и говорил, что я не всё ещё сказал и скоро кончу.
Когда я кончил, Герцен окинул меня олимпийским взглядом и холодным поучительным тоном произнес такое решение:
"Да, с вашей узкой партийной точки это понятно и может быть оправдано; но с общей логической точки зрения это заслуживает строгого осуждения и ничем не может быть оправдано".
Его важный вид и его решение просто ошеломили меня, и всё мое существо с его настроениями и чувствами перевернулось вверх ногами..."Уже в ссылке в разговоре с Сергеем Григорьевичем Стахевичем (1843-1918) Чернышевский несколько иначе описал свои свидания с Герценом:
"Я нападал на Герцена за чисто обличительный характер “Колокола”. Если бы, говорю ему, наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения. Эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде, в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным, а суть-то дела именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем, - конституционную, или республиканскую, или социалистическую, - и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований ваших. Вы неустанно повторяли бы своё:
“Ceterum censo Carthaginem delendam esse” (“Карфаген должен быть разрушен”)".
Боборыкин со своей стороны охарактеризовал лондонское свидание двух революционных светил следующим образом:
"Когда впоследствии я читал о знакомстве Герцена с Чернышевским, который приехал в Лондон уже как представитель новой, революционной России, я сразу понял, почему Александру Ивановичу так не понравился Николай Гаврилович. Его оттолкнули, помимо разницы в их “платформах”, тон Чернышевского, особого рода самоуверенность и нежелание ничего признавать, что он сам не считал умным, верным и необходимым для тогдашнего освободительного движения.
Ведь и Чернышевский отплачивал ему тем же. И для него Герцен был только запоздалый либерал, барин-москвич".
Справедливость оценки Боборыкина подкрепляют и воспоминания наших героев об этом свидании.
Герцен писал:
"Удивительно умный человек, и тем более при таком уме поразительно его самомнение. Ведь он уверен, что “Современник” представляет из себя пуп России. Нас, грешных, они совсем похоронили. Ну, только, кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной – мы ещё поживем".
Чернышевский в своих оценках был более резок:"Какой умница, какой умница... и как отстал. Ведь он до сих пор думает, что продолжает остроумничать в московских салонах и препирается с Хомяковым. А время идёт теперь с страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет. Присмотришься – у него всё ещё в нутре московский барин сидит".
Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) – русский философ и поэт, основоположник славянофильства.Как бы подводя итог этих встреч, Боборыкин писал:
"Они не понравились друг другу и не могли понравиться. Чернышевский приехал с претензией поучать Герцена, на которого он смотрел как на москвича-либерала 40-х годов, тогда как себя он считал провозвестником идей, проникнутых духом коммунизма. Когда я познакомился с Герценом, я понял, до какой степени личность, и весь душевный склад, и тон Чернышевского должны были неприятно действовать на него".
С этого свидания начался разлад между Герценом и российскими революционными демократами, а вскоре авторитет Герцена в России и вовсе рухнул.
Боборыкин писал:
"Польское восстание дало толчок патриотической реакции. Оно лишило и Герцена обаяния и моральной власти, какую его “Колокол” имел до того времени, когда Герцен и его друзья стали за поляков".
Вокруг романа “Что делать?”
Авторитет же Чернышевского и влияние его идей на “прогрессивную” часть российского общества неуклонно возрастали и взлетели на недосягаемую высоту после ареста Чернышевского в 1862 году и его почти двухлетнего заключения в крепости, где он очень много трудился и написал свой известный роман “Что делать?”
Все “передовые” люди России, особенно молодёжь, студенческая, в первую очередь, с восторгом встретили выход в свет этого романа, который был напечатан в “Современнике” уже в середине 1863 года. Роман был напечатан вследствие небрежности членов следственного комитета и цензоров. Вскоре власти опомнились и запретили эти номера журнала, но было уже поздно – птичка вылетела из клетки.
Боборыкин писал об этом произведении Чернышевского:
"Огромный успех среди молодежи романа “Что делать?”, помимо сочувствия коммунистическим мечтаниям автора, усиливался и тем, что роман писан был в крепости и что его автор пошёл на каторгу из-за одного какого-то письма с его подписью, причём почти половина сенатских секретарей признала почерк письма принадлежащим Чернышевскому".
Любопытен также отзыв Николая Семёновича Лескова (1831-1895) об этом романе, напечатанный в том же 1863 году:
"О романе Чернышевского толковали не шёпотом, не тишком, — но во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажа. Кричали: “гадость”, “прелесть”, “мерзость” и т. п. — все на разные тоны".
Далее Лесков подробно высказывает своё личное мнение о романе “Что делать?”:
"Роман г. Чернышевского — явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него здесь и теперь ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго.
Я не могу сказать о романе г. Чернышевского, что он мне нравится или что он мне не нравится. Я его прочёл со вниманием, с любопытством и, пожалуй, с удовольствием, но мне тяжело было читать его. Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь предубеждения, не вследствие какого-нибудь оскорблённого чувства, а просто потому, что роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что называется художественностью. От этого в романе очень часто попадаются места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, нигде не употреблённый тон разговоров дерёт непривычное ухо, и роман тяжело читается. Автор должен простить это нам, простым смертным, требующим от беллетристов искусства живописать.
Роман Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон. И лучшая половина человеческого рода, женщины, к которым г. Чернышевский обращается, как к чувствам, оказывающим более сметливости, чем обыкновенный “проницательный читатель”, не могут переварить женских разговоров в новом романе".
19 мая 1864 года на Мытнинской площади Петербурга состоялась гражданская казнь Н.Г. Чернышевского, которая произвела очень тягостное впечатление на современников. Боборыкин с чужих слов так описал это действо:
"Подробности этой казни передавал нам в редакции “Библиотеки” не кто иной как Буренин, тогдашний мой сотрудник. Он видел, как Чернышевский был взведён на эшафот, как над ним переломили шпагу в знак лишения прав, и он несколько минут был привязан. Буренин подметил, что тот сенатский секретарь, который читал его долгий приговор, постоянно произносил его фамилию “Чернышовский” вместо “Чернышевский”.
Манифестаций, разумеется, не было таких, которые вызвали бы беспорядки".
Арест Чернышевского и следствие по его делу вызвали множество слухов и сплетен в образованных кругах русского общества, но так как достоверной информации было мало, то в головах царила путаница.
Как пример подобной неразберихи приведу отрывок из воспоминаний того же Боборыкина:
"И тогда и позднее много говорили в городе о том, как это Чернышевский был осужден на каторгу за письмо к Плещееву в Москву, а сам Плещеев хоть и допрашивался, но остался цел.
Это до сих пор многим кажется странным и малопонятным. Адресатом Чернышевского считали, несомненно, Плещеева. У него была одно время в Москве и типография.
Известно было, что Всеволод Костомаров выдал Чернышевского.
В настоящую минуту, когда я пишу эти строки (то есть в августе 1908 года), за такое письмо обвиненный попал бы много-много в крепость (или в административную ссылку), а тогда известный писатель, ничем перед тем не опороченный, пошел на каторгу".
Алексей Николаевич Плещеев (1825-1893) – поэт, писатель, переводчик и литературный критик.
Всеволод Костомаров устроил у себя дома подпольную типографию, а после ареста дал показания против Чернышевского и ряда других революционных демократов. Однако в подробности этого запутанного следственного дела я пока зарываться не собираюсь.
Уж, извините великодушно!