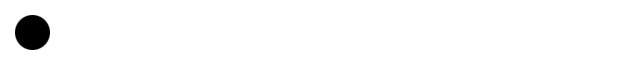Перед тем как перейти к описанию некоторых сторон дворцового хозяйства и быта, я хочу остановиться на основных вехах жизни принцессы Анны Леопольдовны и её недолгого правления.
Елизавета Катарина Кристина фон Мекленбург-Шверин (1718-1846) была родной внучкой царя Ивана II Алексеевича (1666-1696) и с мая 1722 вместе со своей матерью, Екатериной Ивановной (1691-1733), проживала в России; девочку перетащили в Россию так, на всякий случай.
Этот случай пришёл, когда на российский престол в 1730 году взошла её родная тётка Анна Иоанновна. Новая императрица детей иметь не могла, но стремилась сохранить власть за потомками Ивана II Алексеевича, и с этой целью обратила пристальное внимание на воспитание и образование своей племянницы, чтобы потом выдать её замуж за какого-нибудь немецкого принца и получить от этого брака наследника мужского пола.
В мае 1733 года Елизавета Катарина Кристина официально приняла православие и с тех пор стала именоваться Анной Леопольдовной.
В том же 1733 году леди Джейн Рондо (1699-1783), жена английского посланника, так описывает девочку:
"Дочь герцогини Мекленбургской, которую царица удочерила, и которую теперь называют принцессой Анной, дитя. Она не очень хороша собой и от природы так застенчива, что ещё нельзя судить, какова она станет".
[Джейн Рондо (1700-1783), в девичестве Гудвин, в 1728 году вышла замуж за Томаса Уорда, который в феврале 1731 года умер в Петербурге. В ноябре того же года эта дама вышла замуж за Клавдия Рондо (1695-1739), английского консула в Петербурге. В 1740 году после смерти второго мужа эта любвеобильная дама вернулась в Лондон и вышла замуж за крупного коммерсанта Уильяма Вигора. Жаль, что она не стала свидетельницей последних дней правления Анны Леопольдовны!]Леди Рондо тогда ещё не знала о планах императрицы Анны Иоанновны передать престол наследнику мужеского пола, который появится на свет от будущего брака своей племянницы Анны Леопольдовны с приехавшим в Россию в том же 1733 году Антоном Ульрихом (1714-1774) герцогом Брауншвейг-Беверн-Люнебургским.
Увы, выбор жениха оказался крайне неудачным, так как принц Антон Ульрих произвёл очень неприятное впечатление на принцессу Анну, и даже не сумел понравиться императрице.
В 1735 году леди Рондо уже знала о планах императрицы и потому в своих письмах больше внимания уделяет юной Анне Леопольдовне:
"Принцесса Анна, на которую смотрят как на предполагаемую наследницу, находится сейчас в том возрасте, с которым можно связывать ожидания, особенно учитывая полученное ею превосходное воспитание. Но она не обладает ни красотой, ни грацией, а ум её ещё не проявил никаких блестящих качеств. Она очень серьёзна, немногословна и никогда не смеётся; мне это представляется весьма неестественным в такой молодой девушке, и я думаю, за её серьёзностью скорее кроется глупость, нежели рассудительность".
Вскоре принцесса Анна стала причиной скандала в императорском семействе. Эта молодая, не слишком привлекательная и диковатая девушка открыто презирала своего предполагаемого жениха, принца Антона Ульриха, но влюбилась в светского красавца, саксонского посланника в Петербурге графа Линара, который был на шестнадцать лет старше её. Граф ответил взаимностью на чувства принцессы Анны, а способствовали этому роману воспитательница принцессы госпожа Адеркас (вдова прусского генерала?) и камер-юнкер принцессы Иван Брылкин.
Об этой связи вскоре стало известно императрице, и она приняла решительные меры: графа Линара немедленно отозвали на родину, госпожу Адеркас посадили на корабль и отправили в Пруссию, а Ивана Брылкина лишили камер-юнкерства и простым армейским капитаном отправили в Казань.
Карл Мориц Линар (1702-1768) – граф, посланник Саксонии в России.
Иван Онуфриевич Брылкин (1709-1788).
После смерти Анны Иоанновны Брылкин был сразу же призван ко двору и пожалован в камергеры, а вскоре получил назначение на должность обер-прокурора Правительствующего Сената. Этот Брылкин учёл уроки своей опалы и сумел удержаться на своём посту и при следующих правителях России.
Яков Петрович Шаховской (1705-1777), князь, сенатор, в те дни полицмейстер Петербурга, так в своих мемуарах отзывается о Брылкине:
"Сей был господин Брылкин, который мне до того являлся хорошим приятелем, и так же как и я, любимец был графа Головкина, коего стараниями и в обер-прокуроры в Сенат произведён, а при дворе имел чин действительного камергера, в падение же оного своего благотворителя, Бог про то знает, каким способом не только остаться в том месте и в том своём чине, но ещё и любимцем у генерал-прокурора быть усчастливился".
[Михаил Гаврилович Головкин (1699-1754) – граф, вице-канцлер, был женат на Екатерине Ивановне (1700-1791), урождённой Ромодановской, двоюродной сестре императрицы Анны Иоанновны.]Французский посланник маркиз Жоакен Шетарди (1705-1759) в своём послании немного приоткрывает тайну подобной благосклонности Правительницы к Брылкину:
"Камергер Брылкин в то же время назначен обер-прокурором Сената. Сей последний, хоть и безобразен лицом, был заподозрен с большим вероятием в том, что он нравился Правительнице и покровительствовал затем выказанной ею склонности к графу Линару. За подозрением последовало и наказание, так как он был сослан в бывшее Казанское царство при прежнем правительстве. Благосклонность к нему Правительницы стала затем выказываться ещё заметнее, и именно благодаря его содействию по возвращению его ко двору она и стала пользоваться присвоенною ею верховной властью".
Ай, да Ваня! Ай, да сукин сын!Хорошо, от графа избавились, но ведь надо же, наконец, выдать Анну Леопольдовну замуж для производства на свет желанного наследника престола.
Герцог Курляндский в своих мемуарах утверждает, что императрица Анна Иоанновна однажды сказала ему:
"Никто не хочет подумать о том, что у меня на руках принцесса, которую надо отдавать замуж. Время идёт, она уже в поре. Конечно, принц не нравится ни мне, ни принцессе; но особы нашего состояния не всегда вступают в брак по склонности".
Примерно в это же время английский посланник Клавдий Рондо доносил в Лондон:
"Русские министры полагают, что принцессе пора замуж; она начинает полнеть, а, по их мнению, полнота может повлечь за собою бесплодие, если замужество будет отсрочено на долгое время".
Леди Рондо в своих письмах подробно описывает предысторию заключения брака между Анной Леопольдовной и принцем Антоном, но делает это только 20 июня 1739 года, то есть накануне свадьбы:
"Мы все заняты приготовлениями к свадьбе принцессы Анны с принцем Брауншвейгским.
Кажется, я никогда не рассказывала вам, что его привезли сюда шесть лет тому назад с целью женить на принцессе. Ему тогда было около четырнадцати лет, и их воспитывали вместе, чтобы вызвать [взаимную] привязанность. Но это, мне думается, привело к противоположному результату, поскольку она выказывает ему презрение – нечто худшее, чем ненависть. Наружность принца вполне хороша, он очень белокур, но выглядит изнеженным и держится довольно-таки скованно, что может быть следствием того страха, в котором его держали с тех пор, как привезли сюда; так как этот брак чрезвычайно выгоден для принца, ему постоянно указывали на его место. Это, да ещё его заикание затрудняют возможность судить о его способностях. Он вёл себя храбро в двух кампаниях под началом фельдмаршала Миниха.
Утверждают, что причиной отправки принца [в армию], было намерение герцога Курляндского женить на принцессе [Анне] своего сына. Во всяком случае, когда она выказала столь сильное презрение к принцу Брауншвейгскому, герцог решил, что в отсутствие принца дело будет истолковано в более благоприятном свете, и он сможет наверняка склонить её к другому выбору. В соответствии с этим на прошлой неделе он отправился к ней с визитом и сказал, что приехал сообщить ей от имени Её Величества, что она должна выйти замуж с правом выбора между принцем Брауншвейгским и принцем Курляндским.
Она сказала, что всегда должна повиноваться приказам Её Величества, но в настоящем случае, призналась она, сделает это неохотно, ибо предпочла бы умереть, чем выйти замуж за любого из них. Однако если уж ей надо вступить в брак, то она выбирает принца Брауншвейгского.
Вы догадываетесь, что герцог был оскорблён, а принц и его сторонники возликовали. Теперь последние говорят, будто её отношение к принцу было уловкой, чтобы ввести в заблуждение герцога, но мне кажется, она убедит их в том, что не помышляла ни о чём, кроме того, чтобы, коли её принуждают, таким способом нанести удар по ненавистному ей герцогу. Она действительно никого не любит, но поскольку не выносит покорности, то более всех ненавидит герцога, так как в его руках самая большая власть и при этом принцесса обязана быть с ним любезной.
Однако делаются большие приготовления к свадьбе, которую отпразднуют со всей возможной пышностью, и никто не говорит ни о чём ином".
Легко видеть, что почти все историки черпают сведения об этих событиях из письма леди Рондо, так как других источников почти нет.
Подробно описывать саму церемонию бракосочетания я не буду, так как это выходит за рамки данного очерка, и ограничусь лишь констатацией самого факта этого события.
Леди Рондо, конечно же, была в числе гостей и потом сообщала в очередном письме, что
"каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые - очень красиво, другие - очень богато.
Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я ещё не отдохнула, а что ещё хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга. По крайней мере, думается, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы".
Вот так летом 1739 года принцессу Анну Леопольдовну выдали замуж за Антона Ульриха (1714-1774) герцога Брауншвейг-Беверн-Люнебургского, который жил в России с 1733 года, но добиться взаимности от Анны Леопольдовны так и не сумел – она всегда презирала своего супруга. Тем не менее...
12 августа 1740 года в начале 5-го часа пополудни герцогиня Брауншвейг-Люнебургская Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны, исполнила свой династический долг и разрешилась от бремени сыном. Государыня была очень обрадована этим событием, и 28 августа из Правительствующего Сената были разосланы указы, которыми предписывалось:
"О рождении и тезоименитстве внука Ея Императорского Величества, благоверного Государя, принца Иоанна, надлежащее торжествование ежегодно в августе месяце отправлять с будущего 1741 года, а именно, о рождении 12, а о тезоименитстве в 29 число".
Английского чрезвычайного посла в Петербурге Эдварда Финча (1697-1771) это событие застало врасплох:
"В то самое время, как я занят был шифрованием этого донесения, огонь всей артиллерии возвестил о счастливом разрешении принцессы Анны Леопольдовны сыном. Это заставило меня немедленно бросить письмо, надеть новое платье... и поспешить ко двору с поздравлением. Сейчас возвратился оттуда. Принцесса вчера ещё гуляла в саду Летнего дворца, где проживал двор, спала хорошо; сегодня же поутру, между пятью и шестью часами, проснулась от болей, а в семь часов послала известить Её Величество. Государыня прибыла немедленно и оставалась у принцессы до шести часов вечера, то есть ушла только через два часа по благополучном разрешении принцессы, которая, так же как и новорожденный, в настоящее время находится, насколько возможно, в вожделенном здравии".